Автор – Николай Сергеевич ЛЕОНОВ

Закончилось лето. Начинается новый учебный год, а с ним и нескончаемые в России муки образования. Ушёл прежний министр образования и науки Андрей Фурсенко, который управлял ведомством 8 лет, пришёл новый — Дмитрий Ливанов, о котором общество пока мало что знает.
Предыдущий чиновник «прославился» тем, что отчаянно, до самозабвения, внедрял в российское образование и науку западные образцы и модели, известные под названием «Болонский процесс». Что же это за «процесс», кому и для чего нужен? Он был востребован в Западной Европе, которая начала и продолжает строительство Европейского союза, где свободно будут перемещаться люди, капитал, для всех будут едиными шансы и возможности. А коли так, то и критерии образования должны быть одинаковыми, дипломы всеми странами равноправно признанными.
Вот для этой цели ещё в 1999 г. в итальянском городе Болонья собрались министры образования 29 европейских государств и начали формировать единое образовательное пространство Европы. Это неотъемлемая часть политической и экономической консолидации Евросоюза. Министры подписали соответствующую декларацию, работа закипела. Сейчас число стран, примкнувших к «Болонскому процессу», достигло 40. Среди них оказалась и Россия, примкнувшая к «процессу» в 2003 году и взявшая на себя обязательство внедрить у себя на родине его принципы к 2010 году.
Полезность этой инициативы для европейцев не вызывает сомнений. Да, они строят свой общий дом, не без трудностей создали единую валюту, ликвидировали внутренние таможенные барьеры, отменили визовую систему и пр. Россию в свой «европейский вагон» они не пускают, но не возражают, если мы будем ехать на подножке, в лучшем случае — в тамбуре. Со своей стороны, мы отчаянно цепляемся за каждую возможность «озападниться», приблизиться к «сияющим вершинам» западной цивилизации.
Положа руку на сердце, мы должны признаться, что в 1991 г. окончательно и безповоротно завершился вековой спор «славянофилов» и «западников» об историческом пути России: быть ли ей самобытной цивилизацией или частью — не самой значительной — Европы. Последняя попытка в обличье СССР утвердить свою «самость» в мире окончилась неудачей, и сейчас у нас не осталось иных возможностей, как плестись в хвосте Европы. Пришлось ломать свою доморощенную систему образования, приспосабливая её к чужим образцам. Цель реформ в области образования прежний министр Андрей Фурсенко сформулировал цинично просто, выступая на молодёжном форуме на озере Селигер 23 июля 2007 года: «Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других». Это была не случайная оговорка, а его глубинные убеждения. За год до этого он в интервью Первому каналу телевидения говорил, что «учить людей использовать существующие знания и достижения не менее важно, чем готовить “творцов”, создающих что-то новое». Он и в других выступлениях не раз утверждал, что «творцы не всегда и не везде нужны». Иными словами, министр обрывал заранее крылья подрастающему поколению россиян. Человек конфликтный, упрямый, он и покидая свою должность, посетовал на то, что ему «не всегда удавалось добиться, чтобы меня услышали и поняли», и ещё горевал о том, что у него было недостаточно времени для того, чтобы довести до ума свои задумки.
Вообще вклад семьи Фурсенко в российскую копилку оставляет много вопросов. Брат бывшего министра образования и науки — Сергей Фурсенко — занимался чем попало, пока не стал в 2010 г. президентом Российского футбольного союза. Он развалил всё футбольное хозяйство России и ушёл в отставку после позорного поражения нашей сборной на Чемпионате Европы в 2012 г. Их отец — академик А.А.Фурсенко — всю жизнь занимался изучением истории США. Однажды он даже приезжал ко мне для консультаций по поводу своего намерения написать версию ракетного кризиса на Кубе 1962 года. Он произвёл странное впечатление своей приверженностью к американским оценкам этого эпизода. Никаких моих аргументов не захотел услышать и в результате написал книгу в соавторстве с американским историком Т.Нафтали. Её расхваливали в США, но в России она не была замечена. Мы судим о людях по практическим результатам их деятельности, история выставит им окончательные оценки.
Пока мы можем сказать, что итоги деятельности наших «образованцев» озадачивают. Выпускников наших средних школ не допускают в высшие учебные заведения западных стран под предлогом слабой и нестандартной подготовки. В 2007 году международная Организация по экономическому и социальному развитию (ОЭСР) провела тестирование качества выпускников средних школ 65 стран, согласившихся принять участие в эксперименте. Оказалось, что Россия заняла всего лишь 41—43-е место. В том же году был проведён ещё один экзамен для 15-летних школьников из 60 стран, и снова результат для нас был плачевным: российские подростки по уровню знаний были «ниже среднего уровня». Всё это звучит тяжёлым приговором для страны, которая совсем недавно была чуть ли не впереди планеты всей по уровню образованности молодёжи. Авторитет нынешней российской системы образования опустился, как говорят, «ниже плинтуса».
Причины деградации системы образования достаточно понятны, очевидны для всех, но говорить о них в полный голос не принято, чтобы не травмировать себя и других. До 2008 года у всех на слуху были четыре «национальных проекта», одним из которых было образование. Сейчас об этих проектах ни слуху ни духу. Отчётность по результатам вообще не в чести на Руси. Нерешённые проблемы, как правило, упаковываются в другую словесную тару и снова подаются общественности под видом новых целевых программ. Это напоминает широко применяющуюся в торговле практику, когда на товаре, исчерпавшем срок годности, меняется этикетка с указанием новой даты годности.
Образование, как и здравоохранение, — основные показатели благополучия государственного организма. Расходы на эти отрасли являются самыми долгосрочными бюджетными и общественными капиталовложениями, и результаты этих капиталовложений — решающие для судеб государств и народов. В ХIХ веке железный канцлер Германии Бисмарк после разгрома Франции в ходе франко-прусской войны в 1871 году открыто сказал: «Эту войну выиграл немецкий учитель!» Любой политолог скажет, что всякое государство будет занимать такую по значимости нишу в мировом сообществе, которая определяется способностью его народа воспринимать все мировые достижения в области передовых технологий и создавать новые. Надо признать, что теперешняя политическая и деловая «элита» России не готова к таким долгосрочным капиталовложениям, как образование. Пока все заботы государственных мужей направлены на сокращение расходов на эту цель.
Из года в год в стране сокращается число школ: обычная причина — малочисленность учеников, что само по себе является следствием продолжающегося вымирания населения. Если в 2006 году в России было 1,3 млн выпускников средних школ, то в 2012-м — только 840 тыс., а дальше будет ещё хуже, потому что скажется эффект демографического провала, начавшегося в 1991 году. Только за период с 1990 по 2007 г. число образовательных учреждений в России сократилось на 32% (с учётом дошкольных центров и школ начального профессионального образования).
Всё хуже и хуже становится качество педагогов и учителей. Старый (подготовленный в советское время) корпус преподавателей выработал свой жизненный и творческий ресурс. Во времена реформ в педагогические институты и училища шли самые слабые абитуриенты. Престиж профессии принижен нищенской зарплатой, которая в сельских школах опускалась до 3,5—4 тыс. рублей, да и в городских едва превышала 10 тыс. рублей в месяц. Оплата труда педагога в России и в развитых странах Запада соотносится как 1 к 10 в среднем. Бывший министр образования А.Фурсенко иногда говорил, что сейчас нет нехватки педагогов, забывая отметить, что их избыток — из-за сокращения числа школ, а не по причине привлекательности профессии учителя.
До сих пор не прекращается полемика вокруг ЕГЭ (Единого государственного экзамена) в качестве системы независимой оценки знаний учеников. Министерство образования ещё в 2009 году в приказном порядке ввело ЕГЭ, но многие высшие учебные заведения (в частности, МГУ) не признают результаты ЕГЭ как безапелляционное основание для приёма абитуриента в ряды своих студентов и проводят свои экзамены в виде собеседований, тестов и пр.
Сдача ЕГЭ в средних школах превратилась в детективную историю. Ученики, вооружённые современными средствами связи, стараются всячески обмануть государственную экзаменационную комиссию. Они обмениваются эсэмэсками по мобильным телефонам с сообщниками, находящимися вне пределов школы, получают подсказки на вопросы ЕГЭ.Экзаменаторы вооружились глушилками, которые нейтрализуют работу мобильников. Число контролёров на экзаменах выросло за счёт представителей местных властей, приглашённых экспертов и пр.
Ученики, прошедшие горнило экзаменов, стали размещать в интернете вопросы ЕГЭ и ответы на них. В качестве репрессалии всякое разглашение через интернет материалов экзаменов стало караться аннулированием результатов виновников и т.д. Как говорят, голь на выдумки хитра — если опасно через интернет, то против «сарафанного радио» пока что нет защиты, и утечка информации пошла по другим каналам. Спрашивают, а как же дело с экзаменами обстоит на Западе? Там давно восторжествовала философия индивидуализма, и школьники не знают таких понятий, как списывание или подсказки, которые, кстати, рассматриваются как почти уголовно наказуемые деяния и влекут за собой, как правило, исключение виновных из учебного заведения.
Министерство образования не намерено отступать от своего любимого детища — ЕГЭ — и теперь, почувствовав, что силы оппозиционеров слабеют, даже хочет распространить систему этих экзаменов в вузах. Туда тоже добрался «Болонский процесс» в виде двухуровневого образования: «бакалавры» (3—4 года обучения) и «магистры» (5—6 лет обучения). Наш привычный пятилетний срок подготовки специалиста с высшим образованием уходит в прошлое. Противники этой реформы говорят, что при такой системе есть опасность того, что люди, окончившие вузы по европейской модели, захотят покинуть Россию, так как их дипломы будут признаны на Западе, где за знания платят лучше. «Да, — отвечают “образованцы”, — такая опасность есть, но не сидеть же из-за этого в изоляции».
По-прежнему царит хаос в самой системе образования из-за отсутствия единых учебников, пестроты учебных программ. По образу и подобию российского общества, расколотого на социально разобщённые группы, слои, классы, наша система образования также разбита на элитные гимназии, лицеи, спецшколы и обычные массовые школы. Их выпускники оказываются недостаточно конкурентоспособными по сравнению со своими сверстниками из привилегированных учебных заведений.
Ни у Министерства образования и науки, ни у нашего профессионального сообщества нет ясного понимания, какого гражданина хотела бы вырастить Россия в своих школах. Споры, сомнения, взаимные обвинения не ослабевают, а драгоценное время идёт и идёт своим чередом.
Если в образовательном процессе столько нерешённых проблем, то ещё хуже обстоит дело с воспитанием. Практически современная школа отказалась от своей воспитательной функции. Когда-то в давние времена морально-нравственный облик гражданина формировался в большой степени под воздействием государства, усилия которого дополнялись прямым влиянием общества в виде сельской общины или классических городских дворов, о которых сохранились ностальгические воспоминания. Сейчас ничего этого нет. Государство самоустранилось от всего.
Деидеологизированное, департизированное молодёжное пространство стало зарастать крапивой и чертополохом, семена которых усердно разбрасывают современное телевидение, интернет, пресса. Резко упала роль родителей как воспитателей подрастающего поколения. Современное право позволяет подростку укротить своих родителей угрозой обращения к правоохранительным органам. Всё это сказалось на резком ухудшении морально-нравственного климата в России, росте преступности, особенно в молодёжном секторе, в увеличении наркомании, алкоголизма.
В этой тревожной обстановке появилась мысль о возрождении роли Православной Церкви в качестве воспитательного фактора. В мировоззренческой основе большинства традиционных конфессий России, но более всего в учении Русской Православной Церкви, заложены проверенные тысячелетним опытом человечества истины морально-нравственного воспитания. Они основаны на заповедях Иисуса Христа, которые в своё время были перелицованы и использованы прошлой властью в виде «Кодекса строителей коммунизма».
Была выдвинута инициатива создания специального школьного курса под названием «Основы православной культуры», исходя из того, что 80—85% населения России составляют русские. Однако реализация этой инициативы оказалась далеко не простым делом. Вот уже целое десятилетие вокруг этой идеи кипит нешуточная, по большей части закулисная борьба.
Официальные лица нередко говорят, что многонациональность и многоконфессиональность России являются её богатством и залогом процветания. На практике эти лица постоянно сталкиваются со сложными проблемами, возникающими именно на этой почве. Представители других конфессий выступили против обязательности введения такого курса в школьных программах. Они полагали, что это нарушит права и свободы учеников, исповедующих иную веру. В результате ожесточённой полемики победили те, кто поддержал идею факультативности (т.е. добровольности) такого курса. Недавно ушедший в отставку министр образования Андрей Фурсенко под напором не приемлющих Православия сил предложил преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики», т.е. размыть первоначальную суть проекта. Именно в таком формате и было принято решение провести экспериментальное преподавание этого курса в школах 19 регионов Российской Федерации. По итогам этого эксперимента должно быть принято решение о преподавании его во всех регионах России с 1 сентября 2012 года.
Разумеется, что РПЦ лучше других готова к проведению в жизнь этого плана. Уже подготовлены соответствующие учебники, прошли подготовку преподаватели (противники курса категорически протестовали против участия православных священников в учебном процессе, но все препятствия далеко не устранены). Политическая корректность вынуждает официальные лица неизменно подчёркивать равенство всех конфессий и право всех граждан России исповедовать веру своих предков.
Нынешние реформаторы как в области образования, так и в других отраслях не всегда ясно представляют себе отдалённые последствия их деяний для России. Они действуют ощупью, повинуясь стадному стремлению «элиты» во всём подражать Западу. Меня, например, совершенно потрясло заявление нынешнего нового министра экономического развития Андрея Белоусова, сделанное им в Совете Федерации 17 июля с.г., когда решался вопрос, присоединяться ли России к Всемирной Торговой Организации: «Я 25 лет занимаюсь прогнозированием и могу авторитетно заявить, что невозможно просчитать влияние присоединения к ВТО на динамику нашего ВВП.Так же как невозможно предсказать все последствия от этого шага. Однако присоединение к Протоколу позволит России играть по понятным всему миру правилам».
Вот так и в образовании, как в других отраслях, «мы лезем в воду, не зная броду», надеясь на русский «авось». Но не будем унывать, будем ждать, что нам предложит новый министр образования и науки.















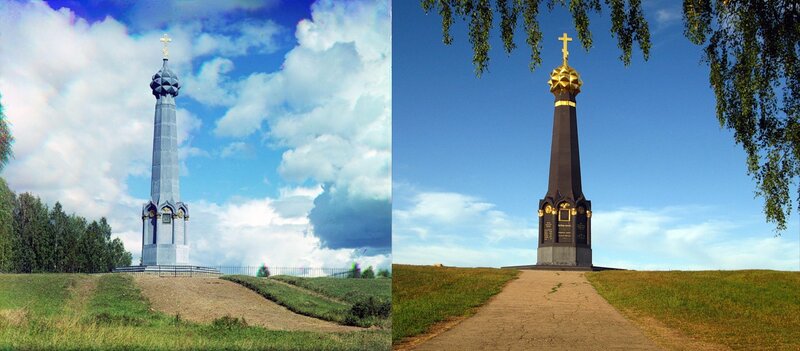


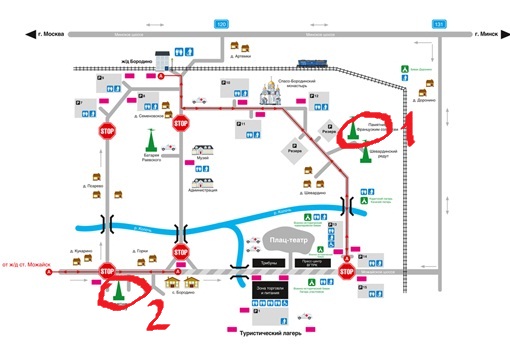












 Фото –
Фото – 











 21 июня 2012 г. представителем Первоиерарха РПЦЗ митрополита Восточно – Американского и Нью-Йоркского Высокопреосвященнейшего Илариона за активную миссионерскую деятельность в России и за рубежом, а также за личный вклад в объединение РПЦ МП и РПЦЗ награжден памятной медалью “Митрополит Лавр” протоиерей Георгий Докукин (храм Троицы в Серебрениках).
21 июня 2012 г. представителем Первоиерарха РПЦЗ митрополита Восточно – Американского и Нью-Йоркского Высокопреосвященнейшего Илариона за активную миссионерскую деятельность в России и за рубежом, а также за личный вклад в объединение РПЦ МП и РПЦЗ награжден памятной медалью “Митрополит Лавр” протоиерей Георгий Докукин (храм Троицы в Серебрениках).









